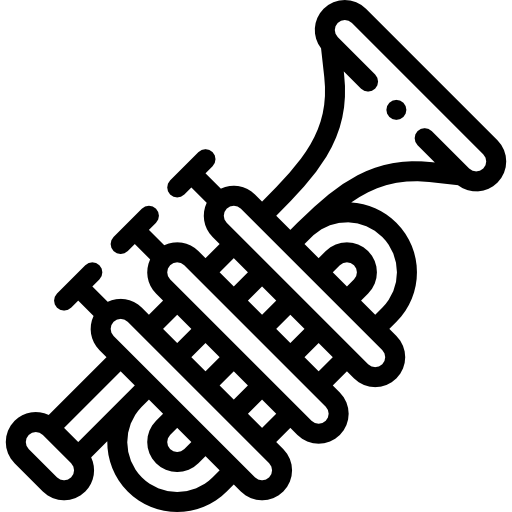Ангел – Это Форточник
Мы с Толиком не знали, как встречать Новый Год. Сидеть в квартире перед телевизором и жрать в неестественных количествах, как мы делали из года в год, нам не хотелось. Тем более Толик непьющий и к пассивному отдыху душой не лежит. Мы пришли к решению, что лучше будет выйти на улицу и смотреть, как празднуют другие. Ходить между людей, заглядывать в окна. Толик предложил, я согласился. Было в этом занятии что-то праздничное. Пусть мы праздновать не можем, так хоть посмотрим на праздник со стороны.
Однако я изменять традициям не стал и в одиннадцать часов открыл бутылку водки. Выпил сто грамм, закусил, и вышел на улицу встречаться с Толиком. Водку прихватил с собой, а с ней литр кока-колы и пакет с закуской. Нарезанная колбаса, жареная курятина, картошка. Это мое праздничное меню. Также взял блокнот и ручку – хотел сочинить поздравительные записки и набросать их людям в почтовые ящики.
Толик встретил меня в праздничной шапке. Она представляла собой ярко-оранжевый колпак с торчащим радужным ирокезом из бахромы. Уши эта шапка не закрывала, и от мороза они были бордово-красными, что контрастировало с цветовой гаммой ирокеза. Наверное, Толик хотел выглядеть в ней весело, но выглядел как идиот. Не подходила она его лицу. Это если мягко сказать.
Зато на нас точно обратят внимание. Если бы мы были не во дворах, а на пустой равнине, то Толик был бы заметен уже на самом горизонте.
– Что это? – спрашиваю.
– Праздничная шапка. Специально берег тебе показать.
– Зачет, – говорю. – А теперь пусть другие посмотрят.
Только на улице никого не было. Перед самым Новым Годом все стараются сидеть дома. Мы постояли некоторое время возле занесенной снегом песочницы. Я выпил водки, запил, съел бутерброд из картошки и курятины.
– Ну вот и прошел две тыщи двенадцатый, – говорю. – Конец света не случился.
– Еще рано загадывать.
– Ты всегда какой-то пессимист.
– Это я пессимист? Тогда где все? Почему никто не празднует?
– Люди позже выйдут, – говорю. – Ставлю на пять минут первого.
– Пошли пока в окна поглядим, че они там делают.
– Отличный вариант.
Мне нравилось, что мы увидим соседей, когда они думают, что за ними никто не смотрит. Взыграла любимая с детства шпионская радость.
Времени было без двадцати двенадцать, когда мы ступили на ярко освещенную, увешанную гирляндами галерею окон, выставлявших напоказ высшие моменты слонимского человека. Окна светились как большие бульдозерные фары и далеко освещали под собой широкие полосы заснеженной земли.
Это был дом номер шестнадцать по улице Франциска Скорины. Он в точности копировал мой дом, и я знал, какому номеру квартиры соответствует каждое окно. На первом этаже номера были такие (слева направо): 32, 31, 22, 21, 12, 11, 2, 1.
Так мы и начали. С тридцать второй квартиры. Место жительства семьи Барковских. На внутренней стороне окна висела сумасшедшая гирлянда, мигающая три или четыре раза в секунду. Она разделялась на рукава и создавала иллюзию дождя или водопада. Программа в ней была сложная и не повторялась. Все в этой гирлянде выражало роскошный дух хозяина квартиры. За гирляндой висел тюль. Створки оставили широкую косую щель.
Поглядел вначале я, потом пустил Толика. Не было видно ничего, кроме богатого стола, на котором теснились закуски. Огромная утка, плашмя лежавшая в центре стола, горка разваренных, пышных комков, напоминавших цеппелины, мясные блюда, одно в подливе, другое под сыром, разрубленная на куски и сложенная обратно рыба в селедочнице, нарезки пятнистых сыров, балыка и полендвицы, пять салатниц с майонезными салатами, вино, шампанское и газированные напитки, а также скромная небольшая курица в ближнем ко мне углу. Над всем этим довольством порхали руки, сжимавшие ножи и вилки.
Ничего другого я от Барковского не ожидал. Он работал на газопроводе и устроил туда всю семью, даже непутевого зятя. Из тех людей, у кого всегда все хорошо.
– Богатый праздник, – сказал Толик, отнявшись от окна. – Всё как надо.
– Барковский, – говорю.
– Прям жрать захотелось.
– У меня есть.
– Да ну, ты сравнил. Свои объедки с красотой.
Была открыта форточка, мы слышали, как семью Барковских поддерживает смехом и аплодисментами телевизор. Кроме приема пищи в квартире ничего не происходило, наблюдать было скучно. Мы пошли к следующему окну.
Тридцать первая квартира. Ермоловичи. Гирлянда на окне простая, вывешена буквой «X», имеет в программе всего три ситуации – горит одна половина лампочек, затем другая, затем все лампочки сразу. Шторы широко раздвинуты, поэтому можно рассмотреть всю комнату. Семья с двумя взрослыми и двумя детьми – мальчиком и девочкой. Стол у Ермоловичей неплохой, но количество закусок на нем заметно скромнее, чем у Барковских. Вареная картошка, выложенная вокруг крупной курицы, несколько салатов и нарезок, рыба. Вино для матери, водка для отца и конфеты с лимонадом для детей.
Ермоловичи жевали и смотрели телевизор, не забывая наполнять тарелки. Дети косились под елку, к которой полулежа прислонились цветные пакеты. Мальчик заскучал и пересел за стол с компьютером. Надел наушники и включил стрелялку.
Форточка у Ермоловичей тоже была открыта, и мы хорошо слышали новогодние остроты, которым внимала семья.
– Дай мне пульт, – сказала женщина мужу. – Посмотрю, что на других каналах.
– Давай я пощелкаю.
– Нет, я хочу, – женщина потянулась за пультом через стол.
Откинувшись на диван, она грациозно нацелила пульт на телевизор. Палец жал одну и ту же кнопку, звук передач прыгал и менялся.
– Ну не щелкай так быстро, – сказал мужчина. – Стой же. Не успеваю понять. Интересно было.
– Неинтересно. Я концерт ищу.
– Совсем как у меня, – говорю. – В детстве.
– И у меня, – сказал Толик. – Только компьютера не было. И телевизора. И вообще все по-другому было.
Тут их спокойствие нарушил звонок в дверь.
– Вовремя мы, – говорю Толику.
Я в своей квартире звонков не люблю и боюсь их, вечно думаю, что это ко мне менты или еще кто-нибудь с неприятностями, но Ермоловичи, видно, звонок этот ждали. Мужчина с женщиной переглянулись и посмотрели на сына.
– Артем, – сказала женщина. – Открой дверь.
– Ай, – ответил Артем, не отрываясь от стрелялки. – Пусть Любка открывает.
– Но я попросила тебя, – твердым голосом сказала мать.
– Ладно.
Артем снял наушники и дурацкой походкой, которая выражала протест, поплелся в прихожую.
– Кто там?
– Дед Мороз, – громко ответил поставленный мужской голос.
– Дед Мороз, мам.
– Открывай.
Мальчик щелкнул замком, и в комнату прошел Дед Мороз с тощим мешком на плече. Одет был по полной униформе, но борода была не белая, а коричневая.
– Здравствуйте, дети. Я вам подарки принес.
– Ух ты, – сказал мальчик.
– Любка, сползай с дивана, – сказала мать. – Чего сидишь?
Любка опустила ноги на ковер и подошла к Деду Морозу.
– Но подарки я вам дам только в том случае, если вы в этом году хорошо себя вели. Вы хорошо себя вели?
Дети поглядели на родителей.
– Хорошо, мам? – спросил Артем.
– Нет.
– А я думал, хорошо.
– Шучу, сынок. Хорошо вели, хорошо.
– Вот и молодцы, – сказал Дед Мороз и полез рукой в мешок. Достал оттуда куклу и вручил девочке. Та взяла подарок без особого интереса и вернулась на диван. Дед Мороз снова полез рукой в мешок и запутался в бороде. Несколько волосков намотались на ось вытащенного из мешка игрушечного грузовичка и никак не разматывались. Дед Мороз вырвал грузовичок из бороды и вручил его мальчику с намотанными на ось коричневыми волосами.
– Садитесь за стол, – сказал мальчик. – Посидите. Я все равно уже не сижу.
– Нет. У меня много дел. Еще стольких детей нужно поздравить.
– Я тебя просто так не отпущу, – сказал отец. – Надо выпить.
Он взял бутылку водки и две рюмки и вышел с ними из-за стола.
– Давай первую.
– Ладно, – сказал Дед Мороз и выпил.
– И вторую.
– Нет.
– Давай-давай.
– Ну ладно.
Они выпили, и Дед Мороз закинул мешок на плечо.
– Ну… – начал он прощаться.
– А я вас знаю, – сказал Артем. – Вы с маминой работы.
Дед Мороз отвел глаза, и на несколько секунд повисло молчание. Даже новогодние комики в телевизоре отчего-то замолчали. Женщина неловко налила себе вина.
– Ладно, я пойду, – сказал Дед Мороз, и мальчик проводил его до двери.
– До свидания, – не вставая с дивана, крикнула ему женщина.
Артем вернулся за компьютер, поставил возле себя конфетницу и бутылку с лимонадом.
– Ну что, – говорю. – Пошли дальше.
– Да, пошли, – сказал Толик. – Хорошая семья оказалась.
– Ермоловичи. Нормальные люди. Плохого о них, верно, ничего не скажешь.
– Молодцы, вообще. И как у них получается. Так дружно живут. И мальчик симпатичный, и девочка. И родители даже. И Дед Мороз.
Окно двадцать второй квартиры было черным и пустым.
– Тут жил Ермак, – говорю. – В Минск переехал, давно уже.
– Правильно сделал, – ответил Толик. – Мы с ним не ладили.
– А ведь на Новый Год мог бы приехать.
– Без него лучше.
Я воспользовался паузой и выпил водки. Запил колой и заел кружком колбасы. Мрак квартиры Ермака словно зажужжал при этом. Мы поглядели в него немного и перебрались к окну двадцать первой.
Для меня это самое интересное окно. В той квартире жили Климки, известные в наших дворах люди, и я расскажу о них подробнее.
Климки – эталон неблагополучной семьи. Каким-то роковым образом жить не умел никто из них. Отец – инвалид по слуху (глухой как пень), а мать – обладательница таинственной, никому не известной болезни, не позволявшей выходить из квартиры. Мало того, так и дети у них получались сплошь инвалидами или на инвалидов похожими. Родителям было за семьдесят, а детям – в диапазоне от сорока до десяти. Три сына и две дочки.
Старший сын был профессиональным зэком и недавно вернулся после очередной отсидки. Возвращался он много раз и всегда ненадолго. На воле постоянно напивался, после чего страшно ругался с отцом. Отец после таких ссор любил схватить топор и гонять сына по дворам.
Красоту обеих дочерей портило косоглазие. Не такое легкое, которое придает лицу прелесть и индивидуальность, а довольно жуткое и жалкое косоглазие. Старшая дочь вышла замуж и жила с мужем у родителей. Муж тоже был зэком, но менее профессиональным, чем старший сын. Сидел всего раз, за угон, но выпить и покачать права любил не меньше. Как вспомнит тюрьму, так сразу начинает крушить мебель. А потом убегает от схватившего топор отца. Только в этих случаях за отцом еще бежит дочь. Ни сама она, ни ее муж нигде не работали. Зато у них был годовалый младенец, с которым они часто гуляли и ходили по всем делам.
Младшая дочь давно не могла найти жениха и уже не искала. Она тоже нигде не работала и днями просиживала у окна вместе с матерью-старушкой. Интереснее всего в жизни им двоим было знать, что происходит на улице. От этого нахождение в нашем дворе теряло свой уют – постоянно чувствовался взгляд двух бдительных женщин.
Средний сын был наиболее знаменит. Неизвестно, оставался ли он на второй год, и если оставался, то сколько раз, но уже в пятом классе был похож на взрослого мужика. Двоечник, алкоголик и наркоман. Наверное, немного отставал в развитии, потому что всегда играл с детьми на три-четыре года младше себя. Обожал нюхать клей и учил этому друзей, отчего взрослые его ненавидели и запрещали детям с ним водиться. После школы уехал в Москву на заработки и надолго пропал. Много лет не подавал вестей, а когда вернулся, выяснилось, что находился в рабстве на кирпичном заводе в Дагестане.
Младший сын годился родителям во внуки. Ему исполнилось всего десять. Тоже был двоечником, но не без искры. Однажды я слышал, как он врал друзьям, будто летал в Мексику, а там змеи ползают по улицам, муравьи гигантские и кремль точь-в-точь как в Москве. Очень реалистично сочинил. Из него еще могло что-то выйти. Сами дети больше всего уважали его за то, что научил их языку жестов. Он хорошо знал этот язык, ведь только так мог объясняться с отцом.
Штор у Климков не было, как и гирлянд или других украшений. Комната отлично просматривалась. Она была оклеена выцветшими бледными обоями и обстановку имела скудную и старую. В углу стояла невысокая живая елочка, посыпанная дождиком из фольги. За исцарапанным белым столом на провалившихся креслах и диване сидела вся семья Климков. На столе стояла литровая пластиковая бутылка с прозрачной желтоватой жидкостью, десятилитровая эмалированная кастрюля, кольцо ливерной колбасы и тарелка винегрета. Телевизора в комнате не было. Климки накладывали и ели картошку из кастрюли, вели активный разговор, сопровождаемый жестикуляцией. Окно было наглухо закрыто, поэтому суть разговора мы не уловили.
– Скудненько, – сказал Толик. – Нехороший праздник.
– Прям жалко, – говорю. – Хоть денег им отсыпь.
– А у тебя есть? – с подозрением спросил Толик.
– Откуда?
– А то ты не молчи. Говори.
Старушка-мать доела картошку и пересела на стул у окна. Мы пригнулись.
– Как думаешь, заметила? – спросил Толик.
– Еще бы. Твою шапку не заметишь.
– Ладно. Двигаемся дальше.
В двенадцатой квартире жил Ляховский, тихий холостой алкоголик. Штор тоже не имел, и его убогую квартиру, которую лучше от чужих глаз прятать, видно было слишком хорошо. Две табуретки, стол, матрас на голом деревянном полу. Сорванные обои, лампочка без люстры. К празднику ничего не подготовлено, ни елки, ни украшений. За столом на табуретках сидели Ляховский с другом Миничем. Одна бутылка водки на столе, шесть или больше, пустых вперемешку с полными, под столом. Закуски я не заметил вообще. На матрасе спал еще один друг Ляховского – Северин. Под ним расплывалось темное пятно. Минич и Ляховский пили грустно и молча.
– Понятно, – сказал Толик. – Как еще этот бармалей праздник отметит.
– У него хоть выдержка есть. Я б не удивился, если б он тоже задрых и проспал Новый Год.
– А кто это, кстати, с ним?
– Да друзья его закадычные. Они ж всегда вместе.
– Я их не видел никогда.
– Видел. Просто они изменились.
– Вот уж дурак. Мог бы жить как человек.
– Да. Ему бы проблемы Климков.
– Ладно, пошли. Не могу смотреть.
В квартире номер одиннадцать жил Толик, и в нее мы заглядывать, разумеется, не стали. Что в нее заглядывать, если мы и так хорошо ее знаем.
Раньше Толик ходил в квартиру через окно. Не мог так не делать, ведь само напрашивалось. Низкая этажность, легкодоступность. Независимость. А он Толик. Но теперь на окне решетка – добрые родственники постарались, чтобы он больше так не делал.
На решетке висела короткая гирлянда из шести обычных бытовых патронов с лампочками накаливания разного размера и мощности. Самодельщина. Шесть лампочек светили слишком ярко и неприятно для праздничной гирлянды. Было светлее, чем во всех сегодняшних квартирах. В таком свете можно паять китайскую микросхему или оперировать мозг. Именно так Толик захотел украсить свое жилище и показать людям, как сильно любит Новый Год, и именно за подобные выходки он стал моим другом.
Гирлянда ослепляла, так что мы даже если хотели бы, то не смогли бы посмотреть, что там у Толика творится.
Зато когда мы проходили под этими лампочками, они будто прямо в моей голове зажглись.
– Слушай, Толик. Меня озарило. Знаю, как помочь Климкам. Надо попросить для них еды у Барковских.
– Точно. Молодец, Андрюша. Будто мою мысль украл. Только давай еще в одну заглянем, раз дошли, и пойдем просить.
И прислонился лбом к следующему окну.
Из окна квартиры номер два падал приятный мягкий свет, и можно было предположить, что это светятся гирлянды, с умом и любовью подобранные для создания праздничного уюта. Мой ум нарисовал влюбленную пару, сидевшую за легким изысканным ужином, но потом я вспомнил, что живут в этой квартире Рембовичи. Старая семья из четырех человек. Нелюдимы, о которых никто ничего не знает. Единственный известный по имени член их семьи – это старая черная кошка Дашка. Как и Толик, она ходила домой через форточку, а летом часто сидела на окне. Была она кошкой неплохой и всеми уважаемой.
Мы заглянули и увидели, что это не гирлянды так светятся и не новогодняя елка, а расставленные на полу высокие толстые свечи. Между ними была начертана белая пятиконечная звезда, вписанная в двухметровый круг.
Теней было больше чем тусклого света, стены казались абсолютно черными, будто вовсе отсутствовавшими. В центре звезды стоял шест с перекладиной, на нем в позе распятия висела Дашка. Она щурила зеленые глаза, тихо выла и дрожала, будто от мороза. Вокруг звезды на коленях сидели Рембовичи – отец с матерью и двое сыновей. Располагались крестом, друг напротив друга. Раскачивались взад-вперед.
Отец Рембович наклонился к распятию и отстучал косточками пальцев числовую комбинацию в центре звезды. Я, конечно, не запомнил, но допустим – 2-3-1-1-3-2. Что-то похожее.
Затем все четверо подняли над головой левые руки и описали ими широкие окружности вокруг себя. Коснулись этими руками лба, затем пола, и так шесть раз.
– Автаз! Автаз! – сказали Рембовичи и продолжили качаться.
Слова произносились громко и отчетливо, поэтому слышны были хорошо.
Вложив большой палец правой руки между большим и указательным левой, отец Рембович коснулся сердца и крикнул:
– Фифа! Фифа!
Затем все четверо вложили так пальцы, повторили жест и слова.
Отец Рембович начертал большим пальцем левой руки крест на своем лице, ото лба к подбородку и от левого глаза к правому. Начертал крест на своем туловище, от шеи к гениталиям, от левой подмышки к правой. Начертал крест на привязанной к шесту кошке.
– Лафа! – сказал он. – Лафа!
Жена и дети осенили себя такими же крестами и повторили слова за отцом.
Отец Рембович встал на ноги, ступил на меловую линию, выставил вперед левую руку, и медленно, приставляя ступню к ступне, пошел вдоль круга.
– Бергамот! Урбеч! Кифара! – повторял он на каждом шаге. – Бергамот! Урбеч! Кифара!
– Хера себе, – говорю. – Че они делают вообще?
– Я знал, что Рембовичи стремные, – ответил Толик, – но не знал, что настолько. Думал, в Слониме самый большой псих – это я. Теперь точно нет, отвечаю. Такую херню я ни разу еще не делал.
Когда отец Рембович совершил полный круг, на ноги встали все чтецы, подняли руки и, извиваясь волной от ног до головы, начали синхронно повторять. Громко, чуть не крича:
– Хронофаг! Хронофаг! Хронофаг!
Много раз повторили, и последний повтор был самый громкий и пафосный.
После этого Дашка стала рваться из веревок и дергаться животом. Выгнулась, как в судороге, задрав голову и тряся челюстью. В ее брюхе происходили странные толчки, будто в стенку желудка изнутри тыкал палец. От толчков распространялась волна по всему телу, кожа вздымалась и обратно не падала. Так Дашка наращивалась, толстела. После нескольких толчков роста лопнула веревка на правой передней лапе. На следующем толчке лопнула веревка на левой лапе. Измененная Дашка упала передом на звезду, поднялась, бульдожьи расставив лапы, и в этом положении стало хорошо видно, сколько в ее тело прибыло мощи. Плоть ее лоснилась мускулами, новыми, дрожащими от энергии, мясными, львиными, пульсирующими вздутиями. Дашка раздалась в груди и в шее, увеличился размер черепа. Взгляд за наивной кошачьей зеленью лучился злобой. Будто Дашка вдруг смертельно обиделась на кого-то и горела местью. Но я у кошек такого выражения не видел. Вообще у зверей не видел, только у нас.
Она продолжала расти, и через два толчка лопнули веревки на задних лапах. После этого Дашка, или, скорее, новое существо, бывшее Дашкой, встало на ноги, как человек. Спина была сутулой и раздутой, налезала панцирем мяса на бока. Еще после нескольких толчков, когда существо стало ростом с человека, начал выпадать мех. Под ним была кожа еще более черная, чем сам мех. Черная и сухая, бесконечно матовая, гасящая свет. Будто это тьма двигалась и заслоняла собой мир. Завершилось превращение тем, что на спине существа вылезли шишки, а на голове витые длинные рога. Голову уже мало что роднило с кошачьей. Выражение и форма были скорее человеко-козлиными.
– Блядь, – говорю, – они че, охуели? Это то, что я думаю?
– О, Хронофаг! – сказал отец Рембович. – Мы ждали тебя, хозяин времени, отец пространства, искра уничтожения, анус будущего, кал прошлого, уд современного. Мы ждали и хотели тебя, властелин. Мы звали и просили тебя. О, Хронофаг! О, заклинатель волхвов, о, забиратель даров.
– Зззачем?! – вымолвило существо. Будто в расколе земной коры, где-то в аду, вспыхнул пламенем гейзер чистой звериной энергии и ветром вышел наружу этого звук.
Рембовичи заметно приуныли. Пафос, которым так блистал чтец Рембович-главный, потускнел и стал походить на пародию. На ложь или плохую актерскую игру. Потому что хоть и старался Рембович говорить с прежними бодростью и важностью, соответствующими моменту, но сам весь напрягся, и на существо, которое призвал, смотрел безрадостно. Говорил он, как дети в школе стихи читают. Заученно и неискренне.
– Хронофаг! – чересчур громко и торжественно сказал отец Рембович. – Отец наш! Мы, твои дети, твои почитатели, твое семя, твои плоды, твои дары и твоя магия, твоя паства, рабы твоей любящей ненависти, мы просим тебя, мы просим тебя, мы просим тебя уничтожить весь мир в волшебный проблеск времени в момент Нового Года. Мы просим уронить мир обратно в дыру, из которой он вышел, спрятать этот пузырь невозможной неправды в то состояние, в каком он и должен бы быть, если бы не мешали твоей власти обратные силы, если б увиден был ты и признан так, как увиден и признан был нами однажды.
– Готовы вы? – снова прошелестел в аду гейзер. – Заплатить?
– Готовы! – поспешно кивнул Рембович-отец, и за ним повторила семья:
– Готовы! Готовы!
Но существо еще говорило. Оно очень медленно шевелило черным языком и делало паузы между словами, будто речь давалась с большим трудом.
– Своими душами? – продолжало оно. – Навечно? Усилить мою ярость? Своим самым глубинным естеством? Отдать мне? Тот единственный подарок? Который был вам подарен в жизни?
– Готовы, – чуть менее уверенно повторил Рембович.
– Готовы, – едва слышно прошептали его жена и сыновья.
– Будь по-вашему, – сказало существо.
– Я понял, – сказал я и сполз под окно. – Достаточно посмотрели. Надо что-то делать. Причем скорей.
Мы озадаченно сидели на снегу и думали. Я, чтобы отвлечься, полез в рюкзак и достал водку.
– Не хочешь? – спрашиваю.
– Не пью же.
– Сейчас, наверное, можно.
– Никогда нельзя.
Я выпил из горла, запил.
– Слушай, Толик, что будем делать?
– Не знаю. А что нам остается?
– Можем зарваться туда. Разбить окно, запрыгнуть в хату…
– А дальше?
– Дать ему пизды. Или со звезды вытолкнуть. Хоть попытаться.
– Я понимаю. Нельзя сидеть сложа руки.
– Я сам его боюсь, очково – жесть, но ты ведь понимаешь.
– Понимаю.
– Ну так что, погнали?
– Погоди. А Климки?
– А что они?
– Ну как же, ты ведь сам придумал.
– Взять для них еды? У Барковских?
– Да. Давай по-быстрому. Угостим людей. А то еще неизвестно, чем закончится, так хоть у них будет Новый Год. Их ведь тоже нельзя бросить. Заодно расслабимся, прежде чем сюда прыгать. Перебьем эффект страха.
– Да, – я посмотрел на часы. – Давай, по-быстрому. У нас десять минут.
На самом деле я Климков не настолько любил, чтобы в такое время им помогать. Если бы решал я, то с легкостью бы ими пожертвовал. Но у меня от страха мысль не работала, и я был в таком ступоре, что куда меня ни позови и что ни скажи делать, пойду и буду выполнять. Это Толик – святая доброта. А для меня Климки – просто возможность потянуть время.
Я сразу начал готовиться в уме к разговору с Барковским. Поставил себя на его место, вспомнил его характер. Довольно заносчивый и снобистский характер, если честно. Поэтому речь как-то не очень придумывалась.
Дело в том, что это только внутри семьи он был расточительным и радушным, а по отношению к внешнему миру, насколько я могу судить, был не человечнее Эбенезера Скруджа до встречи с призраками. В этом он не отличался от большинства слонимчан. Девиз таких типов – «все в семью».
– Он ничего нам не даст, – говорю. – Я подумал. Он же жмот.
– Я согласен, но, может, Новый Год на него подействует.
– Он нас нахуй пошлет.
Мы как раз в это время снова шли под Толиковыми лампочками, и кто-то за домом взорвал салют. И это будто в голове моей салютом лампочки взорвались. Ко мне пришла гениальная идея.
– Надо выкрасть, – говорю.
– Но как?
– Сейчас объясню.
Я достал из рюкзака блокнот с ручкой и принялся писать послание Барковским.
«Уважаемые соседи! Я привез из Китая уникальный фейерверк, подобного которому никто, нигде и никогда больше не видел. Фейерверк поистине чудесный, и увидеть его должен каждый человек на земле. Потому что просто жалко пропустить. И если сейчас не посмотреть, то есть вероятность, что шанс его увидеть больше в жизни не представится. В связи с этим, а также с тем, что мы живем всего один раз, я зову во двор всех соседей, чтобы мы одной большой дружной компанией, в праздничных чувствах, в доброте и единении посмотрели вместе на запуск этого фейерверка. Пусть он будет также дополнительным поводом для всех нас объединиться и встретить Новый Год вместе. Запуск состоится без пяти минут двенадцать, ни в коем случае не пропустите.
Ваш сосед Икс»
Толик заглядывал в блокнот и по мере развития послания одобрительно хакал.
– Ха, – говорил он. – Ха. Ха.
– Ну что? – говорю. – Круто придумано?
– Не то слово. Ты рулишь.
– Ой, блин, больше так не говори.
– Что, слишком новаторски?
– Да. Так новаторски, что устарело.
Мы подошли к окну Барковских. Толик забрался на жестяной отлив и аккуратно сдвинул тюль. Я сделал самолетик из листа с посланием и бросил его в форточку, после чего Толик немедленно отпустил тюль и прыгнул в снег. В окне рука взяла упавший на разрытую утку самолетик. Через несколько секунд у окна появился Барковский, и мы с Толиком пригнулись.
– Надеюсь, он нас не увидел, – говорю. – Будь проклята твоя шапка.
Мы выждали некоторое время и снова заглянули.
Барковские одевались. Отец оделся первым и поглядывал на часы, криками подгоняя остальных домочадцев.
– Да не суетись ты так, – сказал ему Толик.
– Правильно суетится, может опоздать.
– Слушай, а кто полезет?
– Я думал – ты. Ведь ты же специалист.
– На это я и рассчитывал.
Хлопнула дверь, и Толик мгновенно забрался на окно. Он был выше на целый ирокез, что немного мешало, ведь надо было сильнее нагибаться. Вначале в форточку проникла шапка с головой, потом плечи, потом проник и рухнул на пол весь Толик. Я смотрел в окно и выбирал, что можно взять. Вся еда уже была поедена, помята и порушена. Утратила подарочный вид. Кроме скромной небольшой курицы в ближнем ко мне углу, которая выглядела почти нетронутой. Красивая свежеприготовленная курица, не очень дорогая и приличная. То, что надо для Климков.
– Курицу бери, – говорю.
Толик взял со стола блюдо с курицей и выставил в форточку.
– Бля, и как мне его снять? – спрашиваю.
– Одной рукой.
Я забрался на окно и, держась за него левой рукой, в правую взял блюдо. Подставил под него растопыренную пятерню, как официант из старого кино. Перехватил левую ниже по окну, старательно балансируя курицей. Прыгнул в снег.
– Прекрасно, – говорю. – Возвращайся.
– Да, – сказал Толик. – Сейчас.
Он вернулся к столу, запустил руку в хрустальную конфетницу, достал пригоршню конфет и высыпал в карман. Съел ложку одного салата и взялся за другой.
– Я пошел, – говорю. – Времени мало.
– Ага, я догоню.
Натертая перцем и чесноком курица лежала в лужице собственного сока, раздвинув ноги и демонстрируя фарш. Она была теплая, и даже на морозе запах от нее шел невероятно вкусный. У меня просто слюнки текли, пока я ее нес. С одного края она была все-таки немножко расковыряна, но кусочек был отъеден небольшой. Я даже сам отщипнул и съел несколько волоконец. Они оказались предсказуемо превосходными.
Встал под окном Климков и постучал в стекло. На стуле у окна сидела старушка мать.
– Чего тебе?! – крикнула она.
– Курицу принес. Откройте форточку.
– Что? – она не слышала.
– Форточку, говорю, откройте!
Она показала что-то жестами мужу, и он подошел к окну. Кивнул мне требовательно, мол, чего хочешь.
– Форточку откройте! Курицу вам принес!
Глухой Климок пожал плечами. Я дотянулся до форточки и постучал в нее. Климок смотрел на меня и моргал. Я постучал еще раз, выразительно тыкая в форточку пальцем. Климок открыл ее и спросил:
– А?
– Вот, – просунул я курицу, – это вам.
– А? – переспросил Климок.
– Берите-берите, говорю.
Он, конечно, быстро понял, что предлагают халяву, и блюдо взял. В этот момент по мне проскользнула искра, будто у нас с Климком был разный потенциал, который теперь выровнялся. Новогодний свет играл на курице, и казалось, что она люминесцирует и освещает лицо и руки Климка. Из телевизора донеслось несколько аккордов пафосной духовой музыки.
Квартира у Климков хоть и трехкомнатная, но социальная, и досталась им бесплатно. Я знаю, что на ней всегда серьезная задолженность по квартплате, и Климкам постоянно грозит выселение. Поэтому пусть хоть эта фаршированная курица, сочная, прекрасно приготовленная, вкусная курица даст им отдушину в праздник.
Толик подбежал сразу, как блюдо скрылось в квартире. Я посмотрел на часы.
– Без одной минуты, Толик.
– Все, летим.
Мы галопом понеслись к окну Рембовичей, и я соображал, как разбить стекло. Времени искать кирпичи или камни не было, и я решил пожертвовать полупустой бутылкой водки.
– Ладно, – сказал, – уйди, Толик. Бросаю.
– Посмотри, – ответил он, заглянув в окно.
– Что такое?
– Посмотри.
Я приблизился к окну и посмотрел. Существо, расслабившись, лежало на полу. Изо рта и ноздрей у него текла черная, густая, как нефть, жидкость. Рембовичи стояли вокруг него и молча, опустив головы, смотрели.
Существо опадало, как тающий снег, как сдувающийся шарик, и за несколько секунд превратилось в лужу такой же черной жидкости, что лилась у него изо рта и ноздрей.
– Наверное, не выдержал нашей атмосферы, – сказал Толик.
– Значит, мы не умрем? Само обошлось?
Я обнял Толика за плечо и глупо заржал.
– Охуеть!
– Дашку только замучили, – сказал Толик. – Я им этого не прощу.
Тут вдруг одновременно грянули салюты и застреляли петарды, и мы оказались будто посреди театра военных действий в окружении врага.
В минуту двор наполнился людьми, весело гомонившими, певшими и плясавшими. Всюду звучали поздравления с новым две тысячи тринадцатым. Мужчины со стаканами бегали в сутолоке, стараясь со всеми перечокаться, женщины разливали вино и раскладывали на столике и лавочках закуску, дети рвали хлопушки, зажигали петарды и втыкали в снег фейерверки. Полетели ввысь цветные огни: один закружился и в конце хлопнул, другой разделился на шипящее облако, третий пронзительно засвистел, четвертый полетел спиралькой и медленно угас, оставив в небе закрученный дымный след. Пахло порохом и теплой едой.
Мы спустились в толпу и присоединились к празднику. Я достал водку и немедленно получил в руку пакет с мандаринами от старшего Ермоловича.
– Закуси, – говорит. – Мандарины – это новогодние семечки.
Он и вправду поедал мандарины как семечки, один за другим, бросая кожуру в снег.
– Спасибо, – отвечаю.
Очистил мандарин, выпил и закусил.
С Толиком из-за шапки все фотографировались, как с достопримечательностью. Просили дать поносить, но он не давал.
Барковские одиноко стояли посреди праздника и проявляли выдержку и снобизм, чтобы не влиться в толпу. Ждали необыкновенного салюта.
Я напился и подошел к ним:
– Не будет салюта.
– Да? – удивился Барковский. – Откуда ты знаешь?
– Там порох отсырел.
– Очень жаль, мы так ждали.
– Да. Все ждали. Извини.
– А кто этот Икс, не подскажешь?
– Да я сам не знаю, – ответил я и ушел к Толику.
Праздник удался: всем было очень хорошо. Народ отрывался, будто в первый раз. Волна слитности и дружелюбия затопила улицу, и выходить из нее ни у кого не было ни малейшего желания. Веселье длилось до тех пор, пока люди не начали падать от усталости.
– Неужели всегда так празднуют? – спрашиваю Толика. – И как я мог такое пропускать?
– Ты лучше помни, – говорит, – что с Рембовичей глаз спускать нельзя.
Я посмотрел на их окно. Рядом с ним ровным белым сиянием по всей поверхности струилось окно квартиры номер один.
– Мы же в первую квартиру поглядеть забыли, – говорю. – Смотри, как красиво сияет.
– В этом уже нет необходимости. Пусть живут в тайне.
– Да, пусть живут. Мы тоже поживем, – кивнул я и бросился катать голову для снеговика, который лепили Ермоловичи.
А Толик упал в снег, поглядел на звездное небо и расхохотался. Расставил руки и ноги, и сделал в снегу ангела.